|
 –Ы–µ–≤ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є: —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –Ї–ї–∞—Б—Б–Є–Ї –љ–∞ –њ—Г—В–Є –Ї –Ш—Б–ї–∞–Љ—Г –Ы–Є—И—М –µ–і–Є–љ–Є—Ж—Л –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–є —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—В—Б—П –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –Ї–ї–∞—Б—Б–Є–Ї–∞–Љ–Є —Г–ґ–µ –њ—А–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л –≤—Б–µ–Љ—Г –Љ–Є—А—Г вАУ —В–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ –±—Л–ї —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М, –≥—А–∞—Д –Ы–µ–≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є (1828 - 1910 –≥–≥.). –£–ґ–µ –Ї –Ї–Њ–љ—Ж—Г XIX –≤–µ–Ї–∞ –µ–≥–Њ –Є–Љ—П –±—Л–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —Б–∞–Љ–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –≥–і–µ –Њ–љ —Б—В –Ы–µ–≤ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є: —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –Ї–ї–∞—Б—Б–Є–Ї –љ–∞ –њ—Г—В–Є –Ї –Ш—Б–ї–∞–Љ—Г –Ы–Є—И—М –µ–і–Є–љ–Є—Ж—Л –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–є —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—В—Б—П –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –Ї–ї–∞—Б—Б–Є–Ї–∞–Љ–Є —Г–ґ–µ –њ—А–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л –≤—Б–µ–Љ—Г –Љ–Є—А—Г вАУ —В–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ –±—Л–ї —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М, –≥—А–∞—Д –Ы–µ–≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є (1828 - 1910 –≥–≥.). –£–ґ–µ –Ї –Ї–Њ–љ—Ж—Г XIX –≤–µ–Ї–∞ –µ–≥–Њ –Є–Љ—П –±—Л–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —Б–∞–Љ–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –≥–і–µ –Њ–љ —Б—В
–∞–ї –ї—О–±–Є–Љ–µ–є—И–Є–Љ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ, –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ –Ч–∞–њ–∞–і–µ, –љ–Њ –Є –љ–∞ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ. –Ю–≥—А–Њ–Љ–љ—Г—О —А–Њ–ї—М –≤ —Н—В–Њ–Љ —Б—Л–≥—А–∞–ї–Є –µ–≥–Њ –∞–Ї—В–Є–≤–љ–∞—П –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї–∞ —Б –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ–Є –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–Љ–Є –ї–Є–і–µ—А–∞–Љ–Є –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞ (–Є–љ–і—Г—Б–Њ–Љ –Ь–∞—Е–∞—В–Љ–Њ–є –У–∞–љ–і–Є, –µ–≥–Є–њ—В—П–љ–Є–љ–Њ–Љ –Ь—Г—Е–∞–Љ–Љ–µ–і–Њ–Љ –Р–±–і–Њ –Є –і—А.), –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –µ–≥–Њ –Є–і–µ–є –≤ –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–µ—Б—Б–µ –Ї–∞–Ї –љ–∞ –∞—А–∞–±—Б–Ї–Њ–Љ, —В–∞–Ї –Є –љ–∞ —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–∞—Е. –Ш —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ, –Є –µ–≥–Њ —П—А–Ї–Њ–є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ—Л вАФ –Њ—В –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ—П—В–µ–ї–µ–є –і–Њ —Б–∞–Љ—Л—Е –њ—А–Њ—Б—В—Л—Е –ї—О–і–µ–є. –Ы—О–і–Є –љ–∞ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ —Е–Њ—В–µ–ї–Є –Ј–љ–∞—В—М –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –љ–µ–Њ—А–і–Є–љ–∞—А–љ–Њ–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–µ, –ґ–µ–ї–∞–ї–Є –њ–Њ–±–ї–Є–ґ–µ –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В—М—Б—П —Б –µ–≥–Њ –Є–і–µ—П–Љ–Є –Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —В–∞–Ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б–∞–ї–∞ –њ—А–µ—Б—Б–∞. –Ю–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—Ж–Є–Є –≤–Ј—П–ї–∞—Б—М –Ј–∞ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і—Л —А–∞–±–Њ—В –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ (—Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ —Б –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤, –∞ –њ–Њ–Ј–ґ–µ –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Б —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї–∞). –Я—А–Є—З—С–Љ —Б—А–∞–Ј—Г –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –Ї–∞–Ї —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –њ—А–Њ–Ј–∞, —В–∞–Ї –Є –њ—Г–±–ї–Є—Ж–Є—Б—В–Є–Ї–∞ вАУ –≤ –і–≤—Г—Е —Н—В–Є—Е —Д–Њ—А–Љ–∞—Е –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Є –Ї–∞–Ї –±–Њ–≥–Њ–Є—Б–Ї–∞—В–µ–ї—М, –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–є –Љ—Л—Б–ї–Є—В–µ–ї—М. –Ъ–∞–Ї–Њ–≤—Л –ґ–µ –±—Л–ї–Є —Н—В–∞–њ—Л —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л—Е –Є—Б–Ї–∞–љ–Є–є –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–ї—П–ї–Њ –Є –Ї –Ї–∞–Ї–Њ–Љ—Г –Є—В–Њ–≥—Г –Њ–љ –њ—А–Є—И—С–ї –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –ґ–Є–Ј–љ–Є? –Ь–Њ–ґ–µ–Љ –ї–Є –Љ—Л –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Њ —В–Њ—З–Ї–µ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –µ–≥–Њ –њ—Г—В–Є, –Є–ї–Є –Њ–љ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≥–µ–љ–Є—П –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—В–Њ—З–Є–µ? –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –Ї–∞–Ї–Њ–≤–Њ –±—Л–ї–Њ –µ–≥–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Ш—Б–ї–∞–Љ–∞? вАУ –Э–∞ —Н—В–Є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –Љ—Л –њ–Њ—Б—В–∞—А–∞–µ–Љ—Б—П –Њ—В–≤–µ—В–Є—В—М –≤ —Н—В–Њ–є —Б—В–∞—В—М–µ. –Ш –њ–Њ–і—З—С—А–Ї–љ—С–Љ, —З—В–Њ –≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ —В–Њ–Љ, —Б—В–∞–ї –ї–Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ–Є–љ–Њ–Љ вАУ –∞–Ї—В—Г–∞–ї–µ–љ –Є –≥–Њ—А—П—З–Њ –Њ–±—Б—Г–ґ–і–∞–µ—В—Б—П! –Э–µ–Љ–∞–ї–Њ–≤–∞–ґ–µ–љ –Њ–љ –Є –і–ї—П –≤—Б–µ–≥–Њ –Є—Б–ї–∞–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞ вАУ –Є–±–Њ –љ–∞—Б–ї–µ–і–Є–µ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ –і–∞–≤–љ–Њ —Г–ґ–µ —Б—В–∞–ї–Њ –і–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ–Љ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –Ї–ї–∞—Б—Б–Є–Ї–Є, –Є –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –Њ–љ вАУ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е —З–Є—В–∞–µ–Љ—Л—Е –Є –Њ—В—В–Њ–≥–Њ –≤–ї–Є—П—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–є –Љ–Є—А–∞. –Т –љ–∞—И–Є –і–љ–Є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –±—Л—В—Г—О—В –і–≤–µ –Ї—А–∞–є–љ–Њ—Б—В–Є: –љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Є—Б–ї–∞–Љ—Б–Ї–Є—Е —Б–∞–є—В–∞—Е —Ж–Є—В–Є—А—Г—О—В —Д—А–∞–Ј—Г –Є–Ј —З–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ ¬Ђ–њ—А–Њ—И—Г —Б—З–Є—В–∞—В—М –Љ–µ–љ—П –Љ–∞–≥–Њ–Љ–µ—В–∞–љ–Є–љ–Њ–Љ¬ї –Є –њ—А–Є—З–Є—Б–ї—П—О—В –µ–≥–Њ –Ї –њ—А–∞–≤–Њ–≤–µ—А–љ—Л–Љ, –∞ –љ–∞ —Б–∞–є—В–∞—Е –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л—Е –Є –Љ—Г–Ј–µ–є–љ—Л—ЕвА¶ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –љ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В, –±—Г–і—В–Њ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є –Ш—Б–ї–∞–Љ–∞ –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–ї! –Ь–Њ–ї—З–∞—В –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –Є –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Њ-–Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В—Б–Ї–Є–µ —Г—З–µ–±–љ–Є–Ї–Є. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –љ–µ –Ј–∞–±—Л–≤–∞—О—В —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—М, —З—В–Њ –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П –±—Л–ї–Є –µ–≥–Њ –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–Є –њ–Њ—Б—В–Є—З—М –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М –Є —Г—З–µ–љ–Є–µ –Ш–Є—Б—Г—Б–∞ –•—А–Є—Б—В–∞ (–Љ–Є—А –µ–Љ—Г!), –њ–µ—А–µ–ї–Њ–ґ–Є—В—М –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є–µ –і–ї—П —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Т—Б–µ –Ј–љ–∞—О—В, —З—В–Њ –≤ 1901 –≥–Њ–і—Г –µ–≥–Њ –Њ—В–ї—Г—З–Є–ї–Є –Њ—В –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є. –Ґ–∞–Ї–ґ–µ –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ —Б–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї—И–µ–µ –µ—Й—С –њ—А–Є –µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤—Б–µ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ ¬Ђ—В–Њ–ї—Б—В–Њ–≤—Б—В–≤–∞¬ї, –њ–Њ—З—В–Є —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –≤ –≥–Њ–і—Л —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—В–µ–Є–Ј–Љ–∞, –љ—Л–љ–µ –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –Є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–≤–µ–і–∞–Љ–Є –Ї –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј —Д–Њ—А–Љ –њ—А–Њ—В–µ—Б—В–∞–љ—В–Є–Ј–Љ–∞. –Ґ–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –ї–Є –Ы—М–≤–∞ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ –Њ—В–љ–µ—Б—В–Є –Ї –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ–∞–Љ –Є–ї–Є –љ–µ—В? –Ъ–∞–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–є –≤—Л–±–Њ—А –≥–µ–љ–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Є –≤—Б–µ–Љ–Є—А–љ–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л? –Т–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, —Г—В–Њ—З–љ–Є–Љ, –±—Л–ї–Є –ї–Є —Г –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–µ –њ–µ—А–µ—Б–µ—З–µ–љ–Є—П —Б –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ–∞–Љ–Є –Є —З—В–Њ –Њ–љ –Ј–љ–∞–ї –Њ–± –Ш—Б–ї–∞–Љ–µ? –Ю–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –ї–Є—З–љ—Л—Е –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–Њ–≤ –Є –Ј–љ–∞–љ–Є–є —Г –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –±–Њ–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ —Г –ї—О–±–Њ–≥–Њ –Є–љ–Њ–≥–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–Є–Ї–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –µ–Љ—Г –±—Л–ї–Њ 13 –ї–µ—В, —Б–µ–Љ—М—П –њ–µ—А–µ–µ—Е–∞–ї–∞ –≤ –Ъ–∞–Ј–∞–љ—М, –і—А–µ–≤–љ–Є–є –≥–Њ—А–Њ–і –љ–∞ –Т–Њ–ї–≥–µ, –±—Л–≤—И–Є–є –≤ –°—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—М–µ –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —Ж–µ–љ—В—А–Њ–≤ –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –Т–Њ–ї–ґ—Б–Ї–∞—П –С—Г–ї–≥–∞—А–Є—П, —Б 16 –≤–µ–Ї–∞ –њ–Њ–Ї–Њ—А—С–љ–љ–Њ–≥–Њ –†—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ —Ж–∞—А—С–Љ, –љ–Њ –≤—Б—С –ґ–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–≤—И–Є–Љ —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–µ —Б—В–∞—А–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–ї–∞–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В–Є–ї—П –ґ–Є–Ј–љ–Є (–љ—Л–љ–µ –Ъ–∞–Ј–∞–љ—М вАУ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–∞ –†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є –Ґ–∞—В–∞—А—Б—В–∞–љ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –Ј–і–µ—Б—М –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ—Б–Ї–∞—П –Є–і–µ–љ—В–Є—З–љ–Њ—Б—В—М —В–∞—В–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞). –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ –Ъ–∞–Ј–∞–љ–Є –і–µ–і –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П –Ш–ї—М—П –Р–љ–і—А–µ–µ–≤–Є—З –±—Л–ї –≥—Г–±–µ—А–љ–∞—В–Њ—А–Њ–Љ —Б 1815 –њ–Њ 1820 –≥–Њ–і—Л, —В–∞–Љ –Є –њ–Њ–љ—Л–љ–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–∞—Б—М –µ–≥–Њ –Љ–Њ–≥–Є–ї–∞ –љ–∞ –Ъ–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –љ–µ–Ї—А–Њ–њ–Њ–ї–µ. –Т 1844 –≥–Њ–і—Г —О–љ—Л–є –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –Ъ–∞–Ј–∞–љ—Б–Ї–Є–є —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В –љ–∞ –Ю—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤ –§–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В–∞ (–Ј–∞—В–µ–Љ, –њ—А–∞–≤–і–∞, –Њ–љ –њ–µ—А–µ–≤—С–ї—Б—П –љ–∞ –Ѓ—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В, –≥–і–µ –њ—А–Њ—Г—З–Є–ї—Б—П –љ–µ–њ–Њ–ї–љ—Л—Е –і–≤–∞ –≥–Њ–і–∞). –Я—Г—Б—В—М –љ–µ–і–Њ–ї–≥–Њ, –љ–Њ –Ј–і–µ—Б—М –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є —Г—З–Є–ї –∞—А–∞–±—Б–Ї–Є–є –Є —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–µ —П–Ј—Л–Ї–Є –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–≥–Њ —Г—З—С–љ–Њ–≥–Њ –Ь–Єp–Ј—Л –Ъ–∞–Ј–Є–Љ-–±–µ–Ї–∞ (1802-1870 –≥–≥.) - –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є p–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П. –£—З–Є–ї вАУ –љ–µ –Ј–љ–∞—З–Є—В, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —З—В–Њ –≤—Л—Г—З–Є–ї. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Љ—Л –≤–њ—А–∞–≤–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –ї–Є—И—М –Њ –µ–≥–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–µ —Б –∞—А–∞–±—Б–Ї–Є–Љ –Є —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–Љ. –Т 1851 –≥–Њ–і—Г —Б—В–∞—А—И–Є–є –±—А–∞—В –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є —Г–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –µ–≥–Њ –µ—Е–∞—В—М –≤–Љ–µ—Б—В–µ –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А–љ—Л–є –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј, –≥–і–µ –њ–Њ—З—В–Є 3 –≥–Њ–і–∞ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є –ґ–Є–ї –≤ –Ї–∞–Ј–∞—З—М–µ–є —Б—В–∞–љ–Є—Ж–µ –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г —А–µ–Ї–Є –Ґ–µ—А–µ–Ї, –≤—Л–µ–Ј–ґ–∞—П –≤ –Ъ–Є–Ј–ї—П—А, –Ґ–Є—Д–ї–Є—Б, –Т–ї–∞–і–Є–Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј –Є —Г—З–∞—Б—В–≤—Г—П –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П—Е (—Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ, –њ–Њ—В–Њ–Љ –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±–µ). –Т–Њ–µ–љ–љ—Л–µ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є, –Ї–∞–Ї —В–Њ–≥–і–∞ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —Е—А–Њ–љ–Є–Ї–µ, –≤ ¬Ђ—Г—Б–Љ–Є—А–µ–љ–Є–Є –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–∞¬ї - –њ–Њ —Б—Г—В–Є —Н—В–Њ –±—Л–ї–∞ –±–Њ—А—М–±–∞ –Ј–∞ –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ —А–∞—Б—И–Є—А–µ–љ–Є–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–Є –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤, —З–∞—Б—В—М –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–Њ–≤–∞–ї–∞ —Б–≤–Њ–Є –і—А–µ–≤–љ–Є–µ —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ї—Г–ї—М—В—Л, —З–∞—Б—В—М вАУ –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–µ, –љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–∞—П —З–∞—Б—В—М –Ш—Б–ї–∞–Љ. –°–∞—Е–∞–±—Л –Я—А–Њ—А–Њ–Ї–∞ –Ь—Г—Е–∞–Љ–Љ–∞–і–∞ (–°–Р–Т) –њ—А–Є—И–ї–Є –≤ –њ—А–µ–і–≥–Њ—А—М—П –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–∞, –≤ –≥–Њ—А–Њ–і –Ф–µ—А–±–µ–љ—В –µ—Й—С –≤–Њ 2 –≤–µ–Ї–µ –•–Є–і–ґ—А—Л –Є –Є—Б–ї–∞–Љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П —В—А—Г–і–љ–Њ–і–Њ—Б—В—Г–њ–љ—Л—Е –≥–Њ—А–љ—Л—Е —А–∞–є–Њ–љ–Њ–≤ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–∞ —И–ї–∞ –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ, –њ—А–Њ–і–≤–Є–≥–∞—П—Б—М, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–і—Б—З–Є—В–∞–ї–Є —Б–µ–є—З–∞—Б –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Є, —Б–Њ —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М—О 1 –Ї–Љ –≤ –≥–Њ–і. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г, –Ї—Б—В–∞—В–Є, —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ—Б—В—М –Є –љ—А–∞–≤—Л –≤–∞–є–љ–∞—Е–Њ–≤ (—З–µ—З–µ–љ—Ж–µ–≤), –Є–љ–≥—Г—И–µ–є, –Њ—Б–µ—В–Є–љ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –і–∞–ґ–µ –≤ –љ–∞—И–Є –і–љ–Є –њ—А–Њ–љ–Є–Ј–∞–љ—Л –∞–і–∞—В–Њ–Љ (—П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П–Љ–Є –≥–Њ—А). –Ы–µ–≤ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є –љ–∞–њ—А—П–Љ—Г—О —Б—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞–ї—Б—П –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б –ї—О–і—М–Љ–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞. –Т–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –њ—А–Є—А–Њ–і–∞ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–∞, –Ј–љ–∞–љ–Є—П –Њ –±—Л—В–µ –Є –љ—А–∞–≤–∞—Е –≤–Њ—О—О—Й–Є—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ, –њ–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є–µ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Њ–≤, —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е ¬Ђ–і—Г—Е–Њ–Љ –≥–Њ—А¬ї –Є –Ш—Б–ї–∞–Љ–Њ–Љ, –≤–Њ–њ–ї–Њ—В–Є–ї–Є—Б—М –≤ –∞–≤—В–Њ–±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–≤–µ—Б—В–Є –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ –Ъ–∞–Ј–∞–Ї–Є , —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞—Е –Э–∞–±–µ–≥ , –†—Г–±–Ї–∞ –ї–µ—Б–∞ , –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–є –њ–Њ–≤–µ—Б—В–Є –•–∞–і–ґ–Є-–Ь—Г—А–∞—В . –Т–µ—А–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –≤ –†–Њ—Б—Б–Є—О, –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї –≤ –і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї–µ, —З—В–Њ –њ–Њ–ї—О–±–Є–ї —Н—В–Њ—В –Ї—А–∞–є –і–Є–Ї–Є–є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —В–∞–Ї —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ –Є –њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б–Њ–µ–і–Є–љ—П—О—В—Б—П –і–≤–µ —Б–∞–Љ—Л–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ—Л–µ –≤–µ—Й–Є - –≤–Њ–є–љ–∞ –Є —Б–≤–Њ–±–Њ–і–∞ . –Ф–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –і–љ–µ–є –Њ–љ –њ—А–Њ–љ—С—Б –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ –і—А—Г–Ј—М—П—Е-–Ї—Г–љ–∞–Ї–∞—Е –Є–Ј –Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Ж–µ–≤: —В–∞–Ї, –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л, –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –ї–µ–≥–Ї–Њ–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ—Л–є –≥—А–∞—Д –њ—А–Њ–Є–≥—А–∞–ї—Б—П –≤ –Ї–∞—А—В—Л, –Є –µ–Љ—Г –≥—А–Њ–Ј–Є–ї–∞ –і–Њ–ї–≥–Њ–≤–∞—П —П–Љ–∞ вАУ –љ–Њ –µ–≥–Њ —Б–њ–∞—Б —З–µ—З–µ–љ–µ—Ж –°–∞–і–Њ –Ь–Є—Б–µ—А–±–Є–µ–≤, –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Њ—В—Л–≥—А–∞–≤—И–Є–є –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–≥—А—Л—И. –Э–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Є ¬Ђ–Њ—И–Є–±–Ї–Є –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ—Б—В–Є¬ї, –∞ –≤–Њ—В, –Ї–∞–Ї–Њ–µ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–µ –њ–Њ—В—А—П—Б–µ–љ–Є–µ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–ї –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є –љ–∞ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–µ. –І–µ—А–µ–Ј –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М –њ—А–Њ–љ—С—Б –Њ–љ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є—П –Њ–± —Г—З–µ–љ–Є–Є —Б—Г—Д–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —И–µ–є—Е–∞ –Ъ—Г–љ—В–∞-—Е–∞–і–ґ–Є –Ъ–Є—И–Є–µ–≤–∞, –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Ї –њ—А–Є–Љ–Є—А–µ–љ–Є—О –Є –љ–µ–љ–∞—Б–Є–ї–Є—О –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –љ–µ–њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–∞–≤—И–µ–є—Б—П –±–Њ—А—М–±—Л –Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Ј–∞—Е–≤–∞—В—З–Є–Ї–Њ–≤ –Є–Ј –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –≠—В–Њ–≥–Њ —И–µ–є—Е–∞ –Є —Б–µ–є—З–∞—Б –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ —З—В—П—В –≤ –І–µ—З–љ–µ –Є –Ф–∞–≥–µ—Б—В–∞–љ–µ. –Э–Њ –љ–∞–Љ —Б—А–∞–Ј—Г —Б—В–Њ–Є—В –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –µ–≥–Њ –њ–∞—А–∞–і–Њ–Ї—Б–∞–ї—М–љ—Л–µ –Є–і–µ–Є ¬Ђ–љ–µ–љ–∞—Б–Є–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є—П¬ї –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ —А–∞–Ј–≤–Є–ї –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є, –Є –Њ–љ–Є —Б –Њ—Б–Њ–±–Њ–є —Б–Є–ї–Њ–є –≤–Њ–њ–ї–Њ—В–Є–ї–Є—Б—М –≤ –Є–і–µ—П—Е ¬Ђ—Б–∞—В—М—П–≥—А–∞—Е–Є¬ї –Ь–∞—Е–∞—В–Љ—Л –У–∞–љ–і–Є, –±–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ - –њ—А–Є–≤–µ–ї–Є –Ї –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—О –Ш–љ–і–Є–Є –Њ—В –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞! –Ч–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–µ ¬Ђ–°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л¬ї –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ—Л –Ґ–Њ–ї—Б—В—Л–Љ –≤ –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї—Г—О –≤–Њ–є–љ—Г, –≥–і–µ –≤ –Њ—Б–∞–ґ–і—С–љ–љ–Њ–Љ –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–∞–Љ–Є –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї–µ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А-–њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є –±–∞—В–∞—А–µ–µ–є, –њ—А–Њ—П–≤–Є–≤ —А–µ–і–Ї—Г—О –ї–Є—З–љ—Г—О —Е—А–∞–±—А–Њ—Б—В—М, –Ј–∞ —З—В–Њ –±—Л–ї –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ –Њ—А–і–µ–љ–Њ–Љ –Р–љ–љ—Л –Є –Љ–µ–і–∞–ї—П–Љ–Є. –Т –Ъ—А—Л–Љ—Г –Њ–љ –њ–Њ–Ј–љ–∞–ї –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≥–µ—А–Њ–Є–Ї—Г –Є —В—А–∞–≥–Є–Ј–Љ –≤–Њ–є–љ—Л, –љ–Њ –Є –љ—А–∞–≤—Л –Ї—А—Л–Љ—Б–Ї–Є—Е —В–∞—В–∞—А, –Ї–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–ї–∞–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П —Н—В–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—П. –С–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, —З–∞—Б—В—М –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є—Е –Ј–∞–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤, –њ–Њ—П–≤–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –≤ —В–µ –≥–Њ–і—Л, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В —Г–≥–∞–і—Л–≤–∞—В—М –≤ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–Љ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–≥–Њ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ-–њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї–∞: –≤ –Ъ—А—Л–Љ—Г –Њ–љ —Б—В–∞–ї –Љ–µ—З—В–∞—В—М –Њ–± –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –љ–Њ–≤–Њ–є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Є вАУ –Њ—З–Є—Й–µ–љ–љ–Њ–є –Є –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Є –•—А–Є—Б—В–∞. –Я–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –Њ–љ –≤—С–ї –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї—Г —Б –Ь—Г—Е–∞–Љ–Љ–∞–і–Њ–Љ –Р–±–і–Њ (1848-1905 –≥–≥.), –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ —А–µ—Д–Њ—А–Љ–∞—В–Њ—А–Њ–Љ –Ш—Б–ї–∞–Љ–∞, —Б—В–∞–≤—И–Є–Љ —Б 1899 –≥–Њ–і–∞ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Љ—Г—Д—В–Є–µ–Љ –Х–≥–Є–њ—В–∞. –Р —В–Њ—В, –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –±—Л–ї —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є —Б–Њ—А–∞—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ —В–µ–Њ—А–µ—В–Є–Ї–∞ –њ–∞–љ–Є—Б–ї–∞–Љ–Є–Ј–Љ–∞ –Ф–ґ–µ–Љ–∞–ї—П –∞–і-–Ф–Є–љ–∞ –∞–ї—М-–Р—Д–≥–∞–љ–Є (1839-1897 –≥–≥.). –Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї–∞ —Б –Р–±–і–Њ вАУ —Н—В–Њ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–∞—П —Г–≤–ї–µ–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П —В–µ–Љ–∞, –≥–Њ–≤–Њ—А—П—Й–∞—П –Њ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–Љ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–µ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ї –Ї —В–µ–Њ—А–Є–Є –Ш—Б–ї–∞–Љ–∞, —В–∞–Ї –Є –Ї –µ–≥–Њ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ-—А–µ—Д–Њ—А–Љ–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї—Г –≤–Њ –Є–Љ—П —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–Є—П –ґ–Є–Ј–љ–Є –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –Љ–Є—А–∞. –Ю–±—Й–µ–љ–Є–µ —Б –∞—А–∞–±—Б–Ї–Є–Љ —Г—З—С–љ—Л–Љ, –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї–µ–Љ —П–Ј—Л–Ї–∞ –Є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–є —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Я—А–Њ—А–Њ–Ї–∞ –Ш—Б–ї–∞–Љ–∞, —Б—В–∞–ї–Њ –Њ—Б–Њ–±–Њ –≤–∞–ґ–љ—Л–Љ –і–ї—П –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ вАУ –≤–µ–і—М –Њ–љ —Б–∞–Љ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–Є–ї –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є —П–Ј—Л–Ї –•–∞–і–Є—Б—Л, –Є —Б–Њ —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –µ–Љ—Г –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ–Љ —Б–і–µ–ї–∞–ї —Н—В–Њ –±–ї–µ—Б—В—П—Й–µ. –Ґ–µ–њ–µ—А—М —З–Є—В–∞—О—Й–Є–µ –њ–Њ-—А—Г—Б—Б–Ї–Є –Љ–Њ–≥—Г—В –љ–∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ–Њ–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–љ—Г—В—М—Б—П —Б–Є–ї–Њ–є –Є –і—Г—Е–Њ–Љ –°—Г–љ–љ—Л! –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є —Б—З–Є—В–∞–ї –Ј–љ–∞–љ–Є–µ –•–∞–і–Є—Б–Њ–≤ —Б—В–Њ–ї—М –ґ–µ –≤–∞–ґ–љ—Л–Љ –і–ї—П —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —З–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–є, –Ї–∞–Ї –Є –Ј–љ–∞–љ–Є–µ –Љ—Г–і—А–Њ—Б—В–Є –і—А—Г–≥–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤. –£–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —В–µ—Б–љ—Л–Љ —Б—В–∞–ї–Њ –Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ –Ы—М–≤–∞ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ —Б –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ–∞–Љ–Є-—В—О—А–Ї–∞–Љ–Є. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –Њ–±–Њ–±—Й—С–љ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –њ—А–Њ–Ј–∞, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –Є –њ—Г–±–ї–Є—Ж–Є—Б—В–Є–Ї–∞, –Њ–±–ї–Є—З–∞–≤—И–∞—П –њ–Њ—А–Њ–Ї–Є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Є —Г—З–µ–љ–Є–µ –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Г–≤–µ–ї–∞ –ї—О–і–µ–є —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В —Г—З–µ–љ–Є—П –Ш–Є—Б—Г—Б–∞ –•—А–Є—Б—В–∞, –≤—Л–Ј–≤–∞–ї–Є –±—Г—А—О —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є–Є —Г –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є. –Я–µ—А–≤—Л–Љ–Є —Б—В–∞–ї–Є –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–Є—В—М –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ –љ–∞ —Б–≤–Њ–є —П–Ј—Л–Ї –∞–Ј–µ—А–±–∞–є–і–ґ–∞–љ—Ж—Л –≤ 1896 –≥–Њ–і—Г. –Ю–љ –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї—Б—П –Є –ї–Є—З–љ–Њ –Њ–±—Й–∞–ї—Б—П —Б–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ–Є —В–∞—В–∞—А–∞–Љ–Є, –Ї–∞–Ї —Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ—Б—В–≤–∞, —В–∞–Ї –Є –Њ–±–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є. –Ш —Н—В–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞ –µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є вАУ –і–Є–∞–ї–Њ–≥ —Б —В–∞—В–∞—А–∞–Љ–Є вАУ —В–Њ–ґ–µ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–∞—П —Г–≤–ї–µ–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П —В–µ–Љ–∞. –Х—Б–ї–Є —Б –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї–µ–Љ –∞—А–∞–±—Б–Ї–Њ–є —Г—З—С–љ–Њ—Б—В–Є –Р–±–і–Њ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є –Љ–Њ–≥ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б—Л–≤–∞—В—М—Б—П, —В–Њ —Б —В–∞—В–∞—А–∞–Љ–Є –±—Л–ї–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ–µ –ґ–Є–≤–Њ–µ –Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ –ї–Є—Ж–Њ–Љ –Ї –ї–Є—Ж—Г. –Я–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П –Р–Ј–∞—В–∞ –Р—Е—Г–љ–Њ–≤–∞ ¬Ђ–≤ —В–∞—В–∞—А—Б–Ї–Њ–є –њ—А–µ—Б—Б–µ 1905-1907 –≥–Њ–і–Њ–≤, –≤ –њ–Њ—А—Г –±—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П —В–∞—В–∞—А, –Ы—М–≤—Г –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–Љ—Г —Г–і–µ–ї—П–ї–Њ—Б—М —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –і–Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≤—Б–µ–Љ –і—А—Г–≥–Є–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П–Љ, –≤–Љ–µ—Б—В–µ –≤–Ј—П—В—Л–Љ. –Х–≥–Њ –љ–µ–Њ–±—Л—З–∞–є–љ–Њ –≤–Њ–ї–љ–Њ–≤–∞–ї–Є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –Ш—Б–ї–∞–Љ –Є–ї–Є, –Ї–∞–Ї —В–Њ–≥–і–∞ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є, –Ь–∞–≥–Њ–Љ–µ—В–∞–љ—Б—В–≤–Њ. –Ґ–∞—В–∞—А—Л –Ј–љ–∞–ї–Є –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –Є –њ–Є—Б–∞–ї–Є –µ–Љ—Г –Њ —Б–≤–Њ–µ–є –≤–µ—А–µ: —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–ї–Є, —Б–Њ–≤–µ—В–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М, —Б–њ–Њ—А–Є–ї–Є. –Ю–љ –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї –Є–Љ. –Ґ–∞—В–∞—А—Л –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Є—Б–∞–ї–Є –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–Љ—Г - –µ—Е–∞–ї–Є –Ї –љ–µ–Љ—Г –≤ –ѓ—Б–љ—Г—О –Я–Њ–ї—П–љ—Г. –Ґ–µ–Љ–∞ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є –Є —В–∞—В–∞—А—Л –љ–µ–Њ–±—Л—З–∞–є–љ–Њ –Њ–±—И–Є—А–љ–∞. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ XIX - –љ–∞—З–∞–ї–µ XX –≤–µ–Ї–Њ–≤ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —В–∞—В–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П –Є–ї–Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–µ—П—В–µ–ї—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤ —В–Њ–є –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ –љ–µ –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї—Б—П –±—Л –Ї —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤—Г –Є —Г—З–µ–љ–Є—О –Ы—М–≤–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З–∞ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–ЊвА¶¬ї –®–µ–є—Е-–Ъ–∞—Б–Є–Љ –°—Г–±–∞–µ–≤ –њ–Є—Б–∞–ї –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–Љ—Г –Є–Ј –Ъ–∞–Ј–∞–љ–Є: –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г —Г—З–Є—В–µ–ї—О –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –ѓ –Њ—В –Є–Љ–µ–љ–Є –≤—Б–µ—Е –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –њ—А–Є–љ–Њ—И—Г –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Т—Л —Г—З–Є–ї–Є –љ–∞—Б –Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–∞—А–Њ–і—Л –±–µ–Ј —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є—П –≤–µ—А–Њ–Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–∞–љ–Є—П –Є –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Ш –Ї—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Т—Л, –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є —Г—З–Є—В–µ–ї—М –ґ–Є–Ј–љ–Є, —В—А—Г–і–Є–ї–Є—Б—М, –Њ–њ–Є—Б–∞–≤ –ґ–Є–Ј–љ—М –±–∞—И–Ї–Є—А –≤ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–Љ, –љ–Њ —Ж–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є вАФ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–µ –Ш–ї—М—П—Б , –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —П –њ–µ—А–µ–≤—С–ї –Є –Є–Ј–і–∞–ї . –Ч–і–µ—Б—М —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –µ—Й—С –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є вАУ –±–∞—И–Ї–Є—А—Л, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –љ–∞ –ї–µ—З–µ–љ–Є–µ –Ї—Г–Љ—Л—Б–Њ–Љ (–ї–Њ—И–∞–і–Є–љ—Л–Љ –Љ–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–Љ) –µ–Ј–і–Є–ї –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є –≤ 1862 –≥–Њ–і—Г –≤ –Љ–µ—Б—В–µ—З–Ї–Њ –Ъ–∞—А–∞–ї—Л–Ї. –Я–Њ–і—З–µ—А–Ї–љ—С–Љ, —З—В–Њ –≤ –Ј–∞—А—Г–±–µ–ґ–љ—Л—Е –Є—Б–ї–∞–Љ—Б–Ї–Є—Е —Б—В—А–∞–љ–∞—Е –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є –љ–µ –±—Л–≤–∞–ї вАУ –љ–Њ –ї–Є—З–љ–Њ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П —Б –Ш—Б–ї–∞–Љ–Њ–Љ —З–µ—А–µ–Ј –Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Ж–µ–≤, —В–∞—В–∞—А –Є –±–∞—И–Ї–Є—А. –У–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П –µ–≥–Њ ¬Ђ–Є—Б–ї–∞–Љ—Б–Ї–Є—Е –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–є¬ї - —Н—В–Њ –°–µ–≤–µ—А–љ—Л–є –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј –Є –Р—Б—В—А–∞—Е–∞–љ—М, –Ю—А–µ–љ–±—Г—А–≥ –Є –С–∞—И–Ї–Є—А–Є—П, —В–∞—В–∞—А—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –≤ –Я–Њ–≤–Њ–ї–ґ—М–µ –Є –љ–∞ –Я–µ–љ–Ј–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –Ъ—А—Л–Љ. –Ю—Б–Њ–±—Г—О –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤—Л–Ј–≤–∞–ї–∞ –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї–∞ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ —Б —В–∞—В–∞—А–Є–љ–Њ–Љ –Р—Б—Д–∞–љ–і–Є—П—А–Њ–Љ –Т–Њ–Є–љ–Њ–≤—Л–Љ. –Т–Њ–Ј–Љ—Г—Й—С–љ–љ—Л–є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –°–Є–љ–Њ–і–∞ вАУ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞ –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є - –Њ—В 22 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1901 –≥–Њ–і–∞ –Њ–± –Њ—В–ї—Г—З–µ–љ–Є–Є –Ы—М–≤–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З–∞ –Њ—В —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, –Т–Њ–Є–љ–Њ–≤ –њ–Є—Б–∞–ї –µ–Љ—Г –Є–Ј –°—В–∞–Љ–±—Г–ї–∞: –Я—А–Є–Ј–љ–∞—О—Б—М, –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–≤ –Њ–± –Є—Е –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є —Б –Т–∞–Љ–Є, —П —Б–Њ–і—А–Њ–≥–љ—Г–ї—Б—П –Ј–∞ –Т–∞—Б, –і–∞ —Б–њ–∞—Б—С—В –Є –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—С—В –Т–∞—Б –Т—Б–µ–Љ–Њ–≥—Г—Й–Є–є . –Т —В–µ –≥–Њ–і—Л –≤—Б–µ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–µ –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ–µ –±—Л–ї–Є —В–∞–Ї –ґ–µ –±–µ–Ј–Ј–∞—Й–Є—В–љ—Л –њ–µ—А–µ–і –ї–Є—Ж–Њ–Љ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є –Є –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, –Ї–∞–Ї –Є –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є. –Ґ–∞–Ї–Є—Е –ї—О–і–µ–є, –Ї–∞–Ї –љ–∞—И –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є —Г—З–Є—В–µ–ї—М –Є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М (–љ–µ –±—Г–і–µ—В —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –≤ –ї—М—Й–µ–љ–Є–µ), —А–Њ–ґ–і–∞—О—В –љ–µ –≥–Њ–і—Л, –∞ –≤–µ–Ї–∞, –∞ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —Б—В–∞—А–∞—П –Љ–∞—В—Г—И–Ї–∞ –†–Њ—Б—Б–Є—П —А–Њ–і–Є–ї–∞ –≤ 2000 –ї–µ—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –≤ –ї–Є—Ж–µ –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–≥–Њ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –≥—А–∞—Д–∞ –Ы.–Э.–Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ, –і–∞ –њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–Є—В—Б—П –µ–≥–Њ –і—Г—И–∞ —В–µ–њ–µ—А—М –Є –≤ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ –≤–µ—З–љ–Њ—О, –љ–µ–Ј–∞–±–≤–µ–љ–љ–Њ—О –њ–∞–Љ—П—В—М—О! , вАФ –њ–Є—И–µ—В –Т–Њ–Є–љ–Њ–≤ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–Љ—Г. ¬Ђ–Я–µ—А–µ—Е–Њ–і—П –Ї –Т–∞—И–µ–Љ—Г –≤–µ—А–Њ–≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—О –Є –њ–Њ–љ—П—В–Є—О, –≤–Є–ґ—Г, —З—В–Њ –Т—Л –њ—А–Є–Ј–љ–∞—С—В–µ –Є –≤–µ—А–Є—В–µ –≤–Њ –µ–і–Є–љ–Њ–≥–Њ –С–Њ–≥–∞. –≠—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М —Е–Њ—А–Њ—И–Њ. –≠—В–Њ —Б–∞–Љ–Њ–µ –µ—Б—В—М –≤–µ—А–∞ –Ш—Б–ї–∞–Љ–∞ –Є —Г—З–µ–љ–Є–µ –Я—А–Њ—А–Њ–Ї–∞ . –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –і–Њ–±—А–Њ–ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї –љ–∞ —Н—В–Є –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –Є–Ј –°—В–∞–Љ–±—Г–ї–∞. –Т–∞—И–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–µ —Б –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ–Є –њ—Г–љ–Ї—В–∞–Љ–Є –Љ–Њ–µ–≥–Њ –≤–µ—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –Њ—В–≤–µ—В –°–Є–љ–Њ–і—Г, –Њ—З–µ–љ—М –±—Л–ї–Њ –Љ–љ–µ —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ. –ѓ –Њ—З–µ–љ—М –і–Њ—А–Њ–ґ—Г –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–Љ –Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ–Љ —Б –Љ–∞–≥–Њ–Љ–µ—В–∞–љ–∞–Љ–Є , вАФ –њ–Є—Б–∞–ї –Њ–љ –Т–Њ–Є–љ–Њ–≤—Г. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї–∞ –Р—Б—Д–∞–љ–і–Є—П—А–∞ –Т–Њ–Є–љ–Њ–≤–∞ —Б –Ґ–Њ–ї—Б—В—Л–Љ –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–ї–∞ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —Ж–∞—А—Б–Ї–Є—Е –≤–ї–∞—Б—В–µ–є –Є –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –Є–Љ –Ї—А–∞–є–љ–µ –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ–є. –†–∞—Б—В—Г—Й–Є–є –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П —Б—А–µ–і–Є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–Є—Б–њ—А–Њ–≤–µ—А–ґ–µ–љ–Є—П. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –і–µ–ї–Њ –і–Є—Б–Ї—А–µ–і–Є—В–∞—Ж–Є–Є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–Њ –Ї–∞–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Љ–Є—Б—Б–Є–Њ–љ–µ—А—Г –ѓ–Ї–Њ–≤—Г –Ъ–Њ–±–ї–Њ–≤—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї —Б –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —А–∞–Ј–Њ–±–ї–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б—В–∞—В—М—С–є –У—А–∞—Д –Ы.–Э.–Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є –Є –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ–µ (–ґ—Г—А–љ–∞–ї –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–є —Б–Њ–±–µ—Б–µ–і–љ–Є–Ї , 1904. вАФ –І.I). –°—В–∞—В—М—П –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–∞ –љ–∞ –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї–µ –Т–Њ–Є–љ–Њ–≤–∞ —Б –Ґ–Њ–ї—Б—В—Л–Љ, –љ–Њ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М –љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –њ–Њ–ї–µ–Љ–Є–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –≤—С–ї –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є —Б –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ–Љ –Є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М—О, —Б—В–∞–ї–∞ –і–ї—П –љ–µ–≥–Њ –Є –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ–є, –Ї—А–∞–є–љ–µ –≤–∞–ґ–љ–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ –Є –Њ—З–µ–љ—М –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ–є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ. –Р –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –њ—А–Є–Љ–µ—А –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–Є–ї –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ –љ–∞ –њ—А–Њ–±—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ: —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–Ј—А–Њ–і–Є—В—М –≤–µ—А—Г –Њ—В—Ж–Њ–≤ –Є —Б–і–µ–ї–∞—В—М –µ—С —А–∞–≤–љ–Њ–є –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Б—В—А–∞–љ—Л. –Я–Њ–і–≤–µ–і—С–Љ –Є—В–Њ–≥: –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є, –љ–µ –Є–Љ–µ—П –Є—Б–ї–∞–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –љ–µ –±—Г–і—Г—З–Є –∞–ї–Є–Љ–Њ–Љ-—Г—З—С–љ—Л–Љ, –Њ–±–ї–∞–і–∞–ї –Ј–љ–∞–љ–Є—П–Љ–Є –Є –Њ–њ—Л—В–Њ–Љ —Б–Њ–њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П, —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –і–ї—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤—Л—Б—И–µ–≥–Њ —Б–≤–µ—В–∞ —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–µ–є –µ–≤—А–Њ–њ–Њ—Ж–µ–љ—В—А–Є—З–љ–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Э–∞—Е–Њ–і—П—Б—М –≤ –ї–Є—З–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–µ —Б–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ–Є –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ–∞–Љ–Є, –Њ–љ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ —Б –љ–Є–Љ–Є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–Љ –њ—А–Њ–±—Г–ґ–і–µ–љ–Є–Є –љ–∞ —А—Г–±–µ–ґ–µ 19-20 –≤–µ–Ї–Њ–≤, –Ї–∞–Ї –≤–љ—Г—В—А–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є, —В–∞–Ї –Є –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Ј–∞ –µ—С –њ—А–µ–і–µ–ї–∞–Љ–Є. –Ъ–∞–Ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З–µ—Б—В–љ—Л–µ –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–µ –њ–Њ–Є—Б–Ї–Є –њ—А–Є–≤–µ–ї–Є –Ы—М–≤–∞ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ –Ї –њ–µ—А–µ–Њ—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–Є—О –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –•—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є: –Ь–Є—А –і–µ–ї–∞–ї –≤—Б—С —З—В–Њ —Е–Њ—В–µ–ї, –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—П —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, –Ї–∞–Ї –Њ–љ–∞ —Г–Љ–µ–µ—В, –њ–Њ—Б–њ–µ–≤–∞—В—М –Ј–∞ –љ–Є–Љ –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—П—Е —Б–Љ—Л—Б–ї–∞ –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Ь–Є—А —Г—З—А–µ–ґ–і–∞–ї —Б–≤–Њ—О, –≤–Њ –≤—Б—С–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ—Г—О —Г—З–µ–љ–Є—О –•—А–Є—Б—В–∞ –ґ–Є–Ј–љ—М, –∞ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –њ—А–Є–і—Г–Љ—Л–≤–∞–ї–∞ –Є–љ–Њ—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –±—Л –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї–Њ, —З—В–Њ –ї—О–і–Є, –ґ–Є–≤—П –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Г –•—А–Є—Б—В–∞, –ґ–Є–≤—Г—В —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —Б –љ–Є–Љ. –Ш –Ї–Њ–љ—З–Є–ї–Њ—Б—М —В–µ–Љ, —З—В–Њ –Љ–Є—А —Б—В–∞–ї –ґ–Є—В—М –ґ–Є–Ј–љ—М—О, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Б—В–∞–ї–∞ —Е—Г–ґ–µ —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М —Б—В–∞–ї–∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–њ—А–∞–≤–і—Л–≤–∞—В—М —Н—В—Г –ґ–Є–Ј–љ—М, –љ–Њ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—В—М, —З—В–Њ –≤ —Н—В–Њ–Љ-—В–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В —Г—З–µ–љ–Є–µ –•—А–Є—Б—В–∞ вАУ –њ–Є—Б–∞–ї –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є –≤ —Б–≤–Њ–µ–є —А–Њ–і–Њ–≤–Њ–є —Г—Б–∞–і—М–±–µ –ѓ—Б–љ–∞—П –Я–Њ–ї—П–љ–∞ –≤ –Љ–∞—А—В–µ 1909 –≥–Њ–і–∞. –Т –Є—В–Њ–≥–µ –Є–Ј-–њ–Њ–і –µ–≥–Њ –њ–µ—А–∞ –≤—Л—И–ї–Њ –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ —П—А–Ї–Њ –Њ–±–ї–Є—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б—В–∞—В–µ–є –Њ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–≤—И–µ–є –Ш–Є—Б—Г—Б—Г - –Њ–љ–Є –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –Ї–ї–∞—Б—Б–Є–Ї–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–љ—В–Є–Ї–ї–µ—А–Є–Ї–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ—З–µ–љ—М –∞–Ї—В—Г–∞–ї–µ–љ –Ї–∞–Ї –і–ї—П –њ—А–Њ—В–µ—Б—В–∞–љ—В–Њ–≤, —В–∞–Ї –Є –і–ї—П –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ. –Ш, –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –Ј–∞ —Н—В–Є–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ ¬Ђ–Њ—В–ї—Г—З–µ–љ–Є–µ –Њ—В —Ж–µ—А–Ї–≤–Є¬ї –Ы—М–≤–∞ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ - –њ–Њ-–≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є ¬Ђ–∞–љ–∞—Д–µ–Љ–∞¬ї (–і–Њ—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ вАУ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ), –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –±—Л–ї–∞ –њ—А–Њ–≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—И–µ–љ–∞ –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е —Е—А–∞–Љ–∞—Е –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—В—А—П—Б–µ–љ–Є–µ –і–ї—П –≤—Б–µ–є —Б—В—А–∞–љ—Л! –Ю–і–Є–љ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е —З–Є—В–∞–µ–Љ—Л—Е –Є –ї—О–±–Є–Љ—Л—Е –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Ј–∞ –±–Њ—А—В–Њ–Љ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, —П–≤–ї—П–≤—И–µ–є—Б—П –Ї —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –Њ–њ–ї–Њ—В–Њ–Љ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—А–ґ–∞–≤–Є—П! –° –Ј–∞–Љ–Є—А–∞–љ–Є–µ–Љ –і—Г—Е–∞ - –Ї—В–Њ —Б –Њ—В–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ–Љ, –Ї—В–Њ —Б –љ–∞–і–µ–ґ–і–Њ–є - —А–Њ—Б—Б–Є—П–љ–µ —Б–ї–µ–і–Є–ї–Є –Ј–∞ —В–µ–Љ, —З—В–Њ –ґ–µ –њ–Њ–Ј–Є—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–µ—В—С—В –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М-–Љ—Л—Б–ї–Є—В–µ–ї—М –њ–Њ—Б–ї–µ ¬Ђ–∞–љ–∞—Д–µ–Љ—Л¬ї, —А–∞–Ј–ї—Г—З–µ–љ–Є—П —Б —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–Љ –•—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–Њ–Љ? –Р –Њ–љ —В—А—Г–і–Є–ї—Б—П –љ–∞–і –љ–Њ–≤—Л–Љ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–Њ–Љ, —В–Њ—З–љ–µ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П, –љ–∞–і —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –њ–µ—А–µ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є–є, –Є–Ј–і–∞–ї –Ї–љ–Є–≥—Г ¬Ђ–Т —З—С–Љ –Љ–Њ—П –≤–µ—А–∞?¬ї, –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ —Б—В–∞—В–µ–є –Њ –≤–µ—А–µ –Є —В—А–µ–Ј–≤–Њ–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–µ –ґ–Є–Ј–љ–Є, –≤—С–ї –∞–Ї—В–Є–≤–љ—Г—О –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї—Г —Б–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ–Є –±–Њ–≥–Њ–Є—Б–Ї–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є –Є –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–Љ–Є —Г—З–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є, –њ—А–Є—З—С–Љ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –љ–Њ –Є –Ј–∞ —А—Г–±–µ–ґ–Њ–Љ. –Я—А–Њ–і–µ–ї–∞–љ–љ–∞—П –Є–Љ –Ї—А–Є—В–Є–Ї–∞ –і–Њ–≥–Љ–∞—В–Є–Ї–Є –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—П, –µ–≥–Њ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ–Њ–є –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–Є (–ї–Є—В—Г—А–≥–Є–Ї–Є), —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –і–Њ–Ї—В—А–Є–љ—Л, –Њ—Б–≤—П—Й–∞—О—Й–µ–є –љ–∞—Б–Є–ї–Є–µ –Є –љ–µ—Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В—М –ї—О–і–µ–є, –Њ–±–ї–µ—З—С–љ–љ—Л—Е –≤–ї–∞—Б—В—М—О –Є –і–µ–љ—М–≥–∞–Љ–Є вАУ –≤—Б—С —Н—В–Њ –ґ–Є–≤–Њ –Ј–≤—Г—З–Є—В –Є –≤ –љ–∞—И–Є –і–љ–Є. –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –Ї—А–Є—В–Є–Ї–∞ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –•—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–∞ вАУ –і—А–∞–≥–Њ—Ж–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞—Б–ї–µ–і–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–µ—В –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ–Є–љ—Г –њ–Њ–љ—П—В—М, –Ї–∞–Ї —З–Є—Б—В–Њ–µ —Г—З–µ–љ–Є–µ –Х–і–Є–љ–Њ–±–Њ–ґ–Є—П, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, —Б–ї–Њ–≤–∞ –Є –і–µ–ї–∞ –Ш–Є—Б—Г—Б–∞ –•—А–Є—Б—В–∞, –±—Л–ї–Є –Ј–∞—В–µ–Љ–љ–µ–љ—Л –Є –Є–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ—Л, —Б—В–∞–ї–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є—В—М —Б–≤–Њ–Є–Љ –Є—Б—В–Њ–Ї–∞–Љ –Є –Ј–∞–Љ—Л—Б–ї—Г –Ґ–≤–Њ—А—Ж–∞. –Ь—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ–µ 21 –≤–µ–Ї–∞ –Љ–Њ–≥—Г—В –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –µ–≥–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Є –≤ –љ—Л–љ–µ—И–љ–Є—Е —Б–њ–Њ—А–∞—Е —Б ¬Ђ–∞—Е–ї—М –∞–ї—М-–Ї–Є—В–∞–± - –ї—О–і—М–Љ–Є –Я–Є—Б–∞–љ–Є—П¬ї, –њ—А–Є–Љ–µ—А–Њ–Љ –Є –Љ—Л—Б–ї—П–Љ–Є –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ —В–µ—А–њ–µ–ї–Є–≤–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ—П—П —Б—Г—В—М –Ґ–∞—Г—Е–Є–і–∞ –Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –љ–Є—Б–њ–Њ—Б–ї–∞–љ–Є—П –Ъ–Њ—А–∞–љ–∞. –Т –і–љ–Є –Љ—Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ–Њ–Є—Б–Ї–Њ–≤, –Њ–Ї—А—Г–ґ—С–љ–љ—Л–є –љ–µ–њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ–Љ, –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є –њ–Є—Б–∞–ї –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј –њ–Є—Б–µ–Љ: ¬Ђ–ѓ –±—Л –Њ—З–µ–љ—М —А–∞–і –±—Л–ї, –µ—Б–ї–Є –±—Л –≤—Л –±—Л–ї–Є –±—Л –Њ–і–љ–Њ–є –≤–µ—А—Л —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є. –Т—Л –≤–љ–Є–Ї–љ–Є—В–µ –љ–µ–Љ–љ–Њ–ґ–Ї–Њ –≤ –Љ–Њ—О –ґ–Є–Ј–љ—М. –Т—Б—П–Ї–Є–µ —Г—Б–њ–µ—Е–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є - –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤–∞, –њ–Њ—З–µ—Б—В–µ–є, —Б–ї–∞–≤—Л - –≤—Б–µ–≥–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ —Г –Љ–µ–љ—П –љ–µ—В. –Ф—А—Г–Ј—М—П –Љ–Њ–Є, —Б–µ–Љ–µ–є–љ—Л–µ –і–∞–ґ–µ, –Њ—В–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞—О—В—Б—П –Њ—В –Љ–µ–љ—П. –Ю–і–љ–Є - –ї–Є–±–µ—А–∞–ї—Л –Є —Н—Б—В–µ—В—Л - —Б—З–Є—В–∞—О—В –Љ–µ–љ—П —Б—Г–Љ–∞—Б—И–µ–і—И–Є–Љ –Є–ї–Є —Б–ї–∞–±–Њ—Г–Љ–љ—Л–Љ –≤—А–Њ–і–µ –У–Њ–≥–Њ–ї—П; –і—А—Г–≥–Є–µ - —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–µ—А—Л –Є —А–∞–і–Є–Ї–∞–ї—Л - —Б—З–Є—В–∞—О—В –Љ–µ–љ—П –Љ–Є—Б—В–Є–Ї–Њ–Љ, –±–Њ–ї—В—Г–љ–Њ–Љ: –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –ї—О–і–Є —Б—З–Є—В–∞—О—В –Љ–µ–љ—П –Ј–ї–Њ–≤—А–µ–і–љ—Л–Љ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–Њ–Љ; –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–µ —Б—З–Є—В–∞—О—В –Љ–µ–љ—П –і—М—П–≤–Њ–ї–Њ–Љ. –Я—А–Є–Ј–љ–∞—О—Б—М, —З—В–Њ —Н—В–Њ —В—П–ґ–µ–ї–Њ –Љ–љ–µ... –Ш –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є—Б—В–∞, —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ –љ–∞ –Љ–µ–љ—П, –Ї–∞–Ї –љ–∞ –і–Њ–±—А–Њ–≥–Њ –Љ–∞–≥–Њ–Љ–µ—В–∞–љ–Є–љ–∞, —В–Њ–≥–і–∞ –≤—Б—С –±—Г–і–µ—В –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ . –Т–Њ—В –Є–Ј —Н—В–Є—Е —Б–ї–Њ–≤, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –±—Л, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М –≤—Л–≤–Њ–і –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Ы–µ–≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З –њ—А–Є–љ—П–ї –Ш—Б–ї–∞–Љ вАУ –љ–Њ –љ–µ –≤—Б—С —В–∞–Ї –Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ–ЊвА¶ –Т–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –љ–µ –њ—А–Є–љ—П–ї –Ш—Б–ї–∞–Љ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ –Є —П—Б–љ–Њ, –љ–µ –Є–Љ–µ–ї –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–Є. –Э–µ–ї—М–Ј—П –Ј–∞–±—Л–≤–∞—В—М, —З—В–Њ –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б –њ–Њ–Є—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–∞–≤–і—Л –Њ–± –Ш–Є—Б—Г—Б–µ, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–µ–Љ —Б–µ–±—П ¬Ђ–і–Њ–±—А—Л–Љ –Љ–∞–≥–Њ–Љ–µ—В–∞–љ–Є–љ–Њ–Љ¬ї, –Њ–љ –≤ –љ–µ–Љ–µ–љ—М—И–µ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –±—Л–ї –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–µ–љ –С—Г–і–і–Њ–є –Є –Ъ–Њ–љ—Д—Г—Ж–Є–µ–Љ. –Ш –≤—С–ї –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ—Г—О –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї—Г —Б —А–µ–≤–љ–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є —А–∞–Ј–љ—Л—Е –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л—Е —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–є, –Ї –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г, —Б –Ь–∞—Е–∞—В–Љ–Њ–є –У–∞–љ–і–Є, –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї –Є—Е —В–µ–Ї—Б—В—Л –≤ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–є —А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї —З—В–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –і–µ–љ—М. –£ –Є–љ–і–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Є –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е –Љ—Г–і—А–µ—Ж–Њ–≤ –Њ–љ –Є—Б–Ї–∞–ї ¬Ђ—Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–∞–ї—М–љ—Г—О –Њ–±—Й–µ—З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї—Г—О –Є—Б—В–Є–љ—Г¬ї. –С–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є –≤ –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞—Е —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Њ—И—С–ї —З–µ—А–µ–Ј –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ —Г–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–µ –±–∞–±–Є–Ј–Љ–Њ–Љ –Є –≤—Л—А–Њ—Б—И–Є–Љ –Є–Ј –љ–µ–≥–Њ –±–∞—Е–∞–Є–Ј–Љ–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–ї–Є –µ–≥–Њ —В–µ–Љ, —З—В–Њ –Ј–∞—П–≤–ї—П–ї–Є –Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В—М –Љ–Є—Б—Б–Є—О –Я—А–Њ—А–Њ–Ї–∞ –Ь—Г—Е–∞–Љ–Љ–∞–і–∞ (–°–Р–Т), —Б–Є–љ—В–µ–Ј–Є—А—Г—П –µ—С —Б –Є–љ—Л–Љ–Є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–Љ–Є —Г—З–µ–љ–Є—П–Љ–Є. –Ш –≤—Б—С –ґ–µ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —Н—В–Њ–≥–Њ ¬Ђ—Б–Є–љ—В–µ–Ј–∞¬ї –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–∞ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–Љ—Г –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –≤—Л–±–Њ—А –љ–∞ —Г—З–µ–љ–Є–Є –Љ–Є—А–Ј—Л –•—Г—Б–µ–є–љ–∞ –Р–ї–Є –Э—Г—А–Є (1817-1892 –≥–≥.). –Ь—Л –Њ—В—З—С—В–ї–Є–≤–Њ –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М, —З—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –≥–Њ–і—Л —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ вАУ —Н—В–Њ –љ–∞–њ—А—П–ґ—С–љ–љ—Л–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–є –њ–Њ–Є—Б–Ї —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є—Б—В–Є–љ—Л –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ—Л–Љ –≤ —Г—З–µ–љ–Є–Є –Ш–Є—Б—Г—Б–∞ –•—А–Є—Б—В–∞. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, —Б–∞–Љ –Њ–љ –љ–µ —Б—З–Є—В–∞–ї —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л–µ –Є–Љ –њ–µ—А–µ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є—П –Є —Б–≤–Њ–Є —Б—В–∞—В—М–Є –љ–∞ –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Л–µ —В–µ–Љ—Л –Є—В–Њ–≥–Њ–Љ —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–Њ–Є—Б–Ї–Њ–≤ вАУ –њ–∞—А–∞–і–Њ–Ї—Б–∞–ї—М–љ–Њ, –љ–Њ —В–∞–Ї –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ—П–ї–Є —Н—В–Є —В–µ–Ї—Б—В—Л –ї—О–і–Є, —Б–Њ–Ј–і–∞–≤—И–Є–µ –µ—Й—С –њ—А–Є –µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–µ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ—В–Њ–ї—Б—В–Њ–≤—Б—В–≤–∞¬ї. –Ф–∞, –і–∞ вАУ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї вАУ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –њ–Њ—А–Њ–і–Є–ї ¬Ђ—В–Њ–ї—Б—В–Њ–≤—Б—В–≤–Њ¬ї, –љ–Њ —Б–∞–Љ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –љ–µ –±—Л–ї ¬Ђ—В–Њ–ї—Б—В–Њ–≤—Ж–µ–Љ¬ї –Є –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П –Њ—В —А–Њ–ї–Є —Г—З–Є—В–µ–ї—П –Є –ї–Є–і–µ—А–∞ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ —В–µ—З–µ–љ–Є—П! –Я–Њ–Ј–і–љ–µ–µ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–≤–µ–і—Л —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Д–Є—Ж–Є—А—Г—О—В ¬Ђ—В–Њ–ї—Б—В–Њ–≤—Б—В–≤–Њ¬ї –Ї–∞–Ї –љ–µ–Њ–њ—А–Њ—В–µ—Б—В–∞–љ—В—Б–Ї–Њ–µ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–µ. –Ч–∞–Љ–µ—В–Є–Љ —Б—А–∞–Ј—Г, —З—В–Њ –њ–Њ —Г—З–µ–љ–Є—О –Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—П–Љ –±—Л—В–∞ –Њ–љ–Њ –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ —Б—В–Њ–Є—В –љ–∞ –њ–Њ—А–Њ–≥–µ –Ш—Б–ї–∞–Љ–∞вА¶ –љ–Њ –њ–Њ—А–Њ–≥ —Н—В–Њ—В –≤—Б—С –ґ–µ –љ–µ –њ–µ—А–µ—Б—В—Г–њ–∞–µ—В. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –±—А–Њ—Б–Є–≤ –і–Њ–Љ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –і–љ–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Ы–µ–≤ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –Ї —Б–≤–Њ–µ–є —Б–µ—Б—В—А–µ –Ь–∞—А–Є–Є, –Є–љ–Њ–Ї–Є–љ–µ –®–∞–Љ–Њ—А–і–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –Ї –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–Љ –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–Љ –љ–∞—Б—В–∞–≤–љ–Є–Ї–∞–Љ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є - —Б—В–∞—А—Ж–∞–Љ –Ю–њ—В–Є–љ–Њ–є –њ—Г—Б—В—Л–љ–Є. –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Є –њ—Л—В–∞—О—В—Б—П –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А—Л–≤–∞, —Н—В–Є—Е –±–µ—Б–µ–і —Б –Љ–Њ–љ–∞—Е–Є–љ–µ–є –Є —Б—В–∞—А—Ж–∞–Љ–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –і–ї—П –њ—А–Є–Љ–Є—А–µ–љ–Є—П —Б —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М—О –Є–Ј –Ю–њ—В–Є–љ–Њ–є –≤—Б–ї–µ–і –Ј–∞ –љ–Є–Љ –±—Л–ї –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ —Б—В–∞—А–µ—Ж –Т–∞—А—Б–Њ–љ–Њ—Д–Є–є, —Б–і–µ–ї–∞—В—М –≤—Л–≤–Њ–і, —З—В–Њ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є ¬Ђ–≥–Њ—В–Њ–≤ –±—Л–ї —А–∞—Б–Ї–∞—П—В—М—Б—П –Є –≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П –≤ –ї–Њ–љ–Њ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є¬ї. –Ю–і–љ–Є –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В, —З—В–Њ ¬Ђ–µ–≥–Њ –љ—Г–ґ–љ–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Є—В—М –Є –≤–µ—А–љ—Г—В—М –Њ—А—В–Њ–і–Њ–Ї—Б–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤—Г¬ї, –і—А—Г–≥–Є–µ —Б—В—А–Њ–≥–Њ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В, —З—В–Њ ¬Ђ–і–ї—П —В–Њ–≥–Њ –љ–µ—В –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Є –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є —Г—И—С–ї –Є–Ј –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є—Б—М –љ–µ–њ—А–Є–Љ–Є—А–Є–Љ—Л–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є¬ї. –Э–∞ —Б–∞–є—В–µ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ —Г–ґ–µ –≤ –љ–∞—И–Є –і–љ–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Њ—З–Є—В–∞—В—М, —З—В–Њ –љ—Л–љ–µ —Г—З–µ–љ–Є–µ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ –Њ—В—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞–µ—В, –љ–Њ –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В, –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–µ—В –њ—А–Є–є—В–Є –Ї —Ж–µ—А–Ї–≤–Є вАУ —Н—В–Њ —Г–ґ –њ–Њ–ї–љ—Л–є –∞–±—Б—Г—А–і –Є, —Г–≤—Л, —П—А–Ї–∞—П –њ—А–Є–Љ–µ—В–∞ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ —З–Є–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї–Є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є —Е–Њ—В–µ–ї–Є –±—Л –њ—А–Є–Љ–Є—А–Є—В—М ¬Ђ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–µ –Є –±–µ–ї–Њ–µ¬ї. –Т–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є–Љ–Є –і–ї—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –°–Є–Љ–≤–Њ–ї–∞ –≤–µ—А—Л —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Є–ї–Є –њ—А—П–Љ–Њ –Є–Љ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–љ–∞—П –®–∞—Е–∞–і–∞ (–°–Є–Љ–≤–Њ–ї –≤–µ—А—Л), –Є–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П –њ—А–µ–і—Б–Љ–µ—А—В–љ–∞—П –≤–Њ–ї—П. –Х—Б–ї–Є –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є –љ–µ —Б–і–µ–ї–∞–ї, —В–Њ –і–∞–≤–∞–є—В–µ –≤—Б–ї—Г—И–∞–µ–Љ—Б—П –≤ —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–µ –Є–Љ –љ–∞ —А—Г–±–µ–ґ–µ –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є —Г–Љ–Є—А–∞–љ–Є—П. –Т–Њ—В –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ. 6 (19) –љ–Њ—П–±—А—П 1910 –≥–Њ–і–∞ –Ы–µ–≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є –њ—А–Њ–Є–Ј–љ—С—Б –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ —Б–ї–Њ–≤–∞, –Њ–±—А–∞—Й—С–љ–љ—Л–µ –Ї —Б–Њ–±—А–∞–≤—И–Є–Љ—Б—П —Г –µ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–µ–ї–Є –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–Љ: ...–Я—А–Њ–њ–∞—Б—В—М –љ–∞—А–Њ–і—Г, –Ї—А–Њ–Љ–µ –Ы—М–≤–∞ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ, –∞ –≤—Л —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ы—М–≤–∞... –Ь—Г–ґ–Є–Ї–Є —В–∞–Ї –љ–µ —Г–Љ–Є—А–∞—О—В... –Ш —Г–ґ–µ –≤ –њ–Њ–ї—Г–Ј–∞–±—Л—В—М–Є: –Ы—О–±–ї—О –Є—Б—В–Є–љ—Г... –Я–Њ—В—А—П—Б–∞—О—Й–∞—П —Б—Ж–µ–љ–∞ –Є —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–∞! –Э–µ —Б—В–Њ–Є—В —Г–њ–Њ–і–Њ–±–ї—П—В—М—Б—П —В–µ–Љ, –Ї—В–Њ –љ–µ–±–ї–∞–≥–Њ–≥–Њ–≤–µ–є–љ–Њ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї —В–∞–є–љ–µ –≤–µ—А—Л, –Ї —В–∞–є–љ–µ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –Є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ –≤ –Љ–Є—А –Є–љ–Њ–є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Л—Б–ї–Є—В–µ–ї—П –Є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П. –°–Ї–∞–ґ–µ–Љ –њ—А—П–Љ–Њ: –Р–ї–ї–∞—Е—Г –∞–ї–Є–Љ вАУ —Н—В–Њ –≤–µ–і–Њ–Љ–Њ –ї–Є—И—М –Т—Б–µ–≤—Л—И–љ–µ–Љ—Г! –Ш –љ–µ –±—Г–і–µ–Љ –Є—Б–Ї–∞—В—М –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—С–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–≤–µ—В–∞ –љ–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б вАУ —Б –Ї–∞–Ї–Є–Љ –≤–µ—А–Њ—Г–±–µ–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–µ—А–µ—Б—С–Ї –Ы–µ–≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—О—О —З–µ—А—В—Г. –Ю–љ –љ–µ –і–∞–ї –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є. –Х–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М —Б –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—С–љ–љ–Њ—Б—В—М—О: –Ы–µ–≤ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї –Є —Ж–µ–љ–Є–ї –≤ –Ш—Б–ї–∞–Љ–µ, –Ј–љ–∞–ї –њ—А–∞–≤–Њ–≤–µ—А–љ—Л—Е —А–∞–Ј–љ—Л—Е –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–µ–є, –і—А—Г–ґ–Є–ї –Є –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї—Б—П —Б –љ–Є–Љ–Є. –Ш –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –љ–∞–Љ –Ї–∞–Ї –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Л –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Ж–µ–≤ –Є —В–∞—В–∞—А, —В–∞–Ї –Є –љ–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±–µ—Б—Б–њ–Њ—А–љ—Л–µ, –љ–Њ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–µ –Є –≤–Њ–ї–љ—Г—О—Й–Є–µ –Љ—Л—Б–ї–Є –Њ–± –Ш—Б–ї–∞–Љ–µ. –Т–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–ї—С–љ–љ–Њ–µ –Є–Љ –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–µ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ ¬Ђ—В–Њ–ї—Б—В–Њ–≤—Ж–µ–≤¬ї –±—Л–ї–Њ –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ, –љ–Њ –љ–µ –і–≤–Є–≥–∞–ї–Њ—Б—М –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Ш—Б–ї–∞–Љ–∞. –С—Г–і—Г—З–Є –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —З–µ—А—В–∞—Е –±—Л—В–∞ –Є –≤–µ—А—Л –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–Љ–Є –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ–∞–Љ, —В–Њ–ї—Б—В–Њ–≤—Ж—Л —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –Є –Њ—Б—В–∞—О—В—Б—П –≤ —А—Г—Б–ї–µ –•—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–∞. –Ш –≤—Б—С –ґ–µ –µ—Б—В—М —Г –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ —В–∞–Ї–Є–µ ¬Ђ–Є—Б–ї–∞–Љ—Б–Ї–Є–µ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л¬ї, –Њ—Б—В—А–Њ—В–∞ –Є —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–µ —Г—В—А–∞—З–µ–љ—Л –њ–Њ —Б–µ–є –і–µ–љ—М. –†—Г—Б—Б–Ї–∞—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞, –≤—Л—И–µ–і—И–∞—П –Ј–∞–Љ—Г–ґ –Ј–∞ –Љ—Г—Б—Г–ї—М–Љ–∞–љ–Є–љ–∞ –Х–ї–µ–љ–∞ –Х—Д–Є–Љ–Њ–≤–љ–∞ –Т–µ–Ї–Є–ї–Њ–≤–∞, –њ–Є—Б–∞–ї–∞ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –µ—С —Б—Л–љ–Њ–≤—М—П –ґ–µ–ї–∞—О—В –њ—А–Є–љ—П—В—М –Ш—Б–ї–∞–Љ, –Є —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–ї–∞ —Б–Њ–≤–µ—В–∞, –Ї–∞–Ї –±—Л—В—М. –Ю–љ –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї: ¬Ђ–І—В–Њ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –і–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ—З—В–µ–љ–Є—П –Љ–∞–≥–Њ–Љ–µ—В–∞–љ—Б—В–≤–∞ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—О..., —П –Љ–Њ–≥—Г —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—Б–µ–є –і—Г—И–Њ–є —Б–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М —В–∞–Ї–Њ–Љ—Г –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і—Г. –Ъ–∞–Ї –љ–Є —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ —Н—В–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –і–ї—П –Љ–µ–љ—П, —Б—В–∞–≤—П—Й–µ–≥–Њ –≤—Л—И–µ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –Є–і–µ–∞–ї—Л –Є —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–µ–љ–Є–µ –≤ –µ–≥–Њ –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ, –і–ї—П –Љ–µ–љ—П –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Љ–∞–≥–Њ–Љ–µ—В–∞–љ—Б—В–≤–Њ –њ–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –≤–љ–µ—И–љ–Є–Љ —Д–Њ—А–Љ–∞–Љ —Б—В–Њ–Є—В –љ–µ—Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–љ–Њ –≤—Л—И–µ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—П. –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ, –µ—Б–ї–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–≤–∞ –≤—Л–±–Њ—А–∞: –і–µ—А–ґ–∞—В—М—Б—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—П –Є–ї–Є –Љ–∞–≥–Њ–Љ–µ—В–∞–љ—Б—В–≤–∞, —В–Њ –і–ї—П –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј—Г–Љ–љ–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П –≤ –≤—Л–±–Њ—А–µ –Є –≤—Б—П–Ї–Є–є –њ—А–µ–і–њ–Њ—З—В–µ—В –Љ–∞–≥–Њ–Љ–µ—В–∞–љ—Б—В–≤–Њ —Б –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–µ–Љ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–≥–Љ–∞—В–∞, –µ–і–Є–љ–Њ–≥–Њ –С–Њ–≥–∞ –Є –Х–≥–Њ –Я—А–Њ—А–Њ–Ї–∞, –≤–Љ–µ—Б—В–Њ —В–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –Є –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ–≥–Њ –≤ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–Є - –Ґ—А–Њ–Є—Ж—Л, –Є—Б–Ї—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П, —В–∞–Є–љ—Б—В–≤, —Б–≤—П—В—Л—Е –Є –Є—Е –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є –Є —Б–ї–Њ–ґ–љ—Л—Е –±–Њ–≥–Њ—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–є... –ѓ—Б–љ–∞—П –Я–Њ–ї—П–љ–∞, 15 –Љ–∞—А—В–∞ 1909 –≥–Њ–і–∞¬ї. –Я–Њ–і–≤–Њ–і—П –Є—В–Њ–≥, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М: –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Ї–ї–∞—Б—Б–Є–Ї —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Є –≤—Б–µ–Љ–Є—А–љ–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л –Ы–µ–≤ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є –±—Л–ї, –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ, —Е–∞–љ–Є—Д–Њ–Љ-–µ–і–Є–љ–Њ–±–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –≥–Њ–і—Л —Б–≤–Њ–µ–є –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є —Б—В–Њ—П–ї –љ–∞ –њ–Њ—А–Њ–≥–µ –Ш—Б–ї–∞–Љ–∞. –І—В–Њ–±—Л –і–Њ–є—В–Є –і–Њ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –≤–µ—А–Њ—Г–±–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –Њ–љ –њ—А–Њ–і–µ–ї–∞–ї –і–ї—П —Б–µ–±—П –ї–Є—З–љ–Њ –Є –і–ї—П –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–Њ–≤ –µ–≥–Њ —З–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–є –њ–Њ–Є—Б—В–Є–љ–µ —В–Є—В–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —В—А—Г–і: —Г—А–Њ–ґ–і—С–љ–љ—Л–є –≤ –і–∞–ї—С–Ї–Њ–є –Њ—В –Ш—Б–ї–∞–Љ–∞ —Б–µ–Љ—М–µ, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–Є–є –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–µ –Є –µ–≤—А–Њ–њ–Њ—Ж–µ–љ—В—А–Є—З–љ–Њ–µ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є–µ, –±—Г–і—Г—З–Є –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –±–Њ–≥–∞—В–µ–є—И–Є—Е –Є –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ—С–љ–љ—Л—Е –Ї —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ —Б —В–Є—В—Г–ї–Њ–Љ –≥—А–∞—Д–∞, –Њ–љ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–ї –Ї–Њ—Б–љ–Њ—Б—В—М —Б–≤–Њ–µ–є —Б—А–µ–і—Л, –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–ї –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ—Б—В—М —Б–ї–Њ–≤ –Ш–Є—Б—Г—Б–∞ –•—А–Є—Б—В–∞ –Є —В–Њ, —З—В–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –•—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–Њ –Є–Ј–≤—А–∞—В–Є–ї–Њ –Є—Е. –Э–∞ —Н—В–Њ–є –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –Њ–љ –њ—Л—В–∞–ї—Б—П –љ–∞–є—В–Є –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ—Г—О –Є—Б—В–Є–љ—Г –Х–і–Є–љ–Њ–±–Њ–ґ–Є—П, —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–∞–ї—М–љ—Г—О –Є –Њ—В–Ї—А—Л—В—Г—О –і–ї—П –≤—Б–µ—Е –≤—А–µ–Љ—С–љ –Є –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤. –° –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ–Љ –Є –ї—О–±–Њ–≤—М—О –Њ–љ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–Є–ї –љ–∞ —А–Њ–і–љ–Њ–є —П–Ј—Л–Ї –•–∞–і–Є—Б—Л –Я—А–Њ—А–Њ–Ї–∞ –Ь—Г—Е–∞–Љ–Љ–∞–і–∞ (–°–Р–Т). –Ш–Ј –ґ–Є–Ј–љ–Є –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є –≤ –Љ–Є—А –Є–љ–Њ–є –Њ–љ —Г—И—С–ї —З–µ—Б—В–љ—Л–Љ –±–Њ–≥–Њ–Є—Б–Ї–∞—В–µ–ї–µ–Љ-—Е–∞–љ–Є—Д–Њ–Љ. –Т —Н—В–Њ–Љ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–∞—П —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –µ–≥–Њ –њ—Г—В–Є –і–ї—П —З–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–є. –Р –≤ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–Љ - –њ—Г—Б—В—М –і–∞ —А–∞—Б—Б—Г–і–Є—В –Р–ї–ї–∞—Е, –Є–±–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Х–Љ—Г –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—В –љ–∞—И–Є —Б–µ—А–і—Ж–∞! –Р–ї–ї–∞—Е—Г –∞–ї–Є–Љ. –°–∞–Є–і–Њ –Ъ—П–Љ–Є–ї–µ–≤ –Є –Ф–ґ–∞–љ–љ–∞—В –°–µ—А–≥–µ–є –Ь–∞—А–Ї—Г—Б (
–≠—В–Њ—В e-mail –∞–і—А–µ—Б –Ј–∞—Й–Є—Й–µ–љ –Њ—В —Б–њ–∞–Љ-–±–Њ—В–Њ–≤, –і–ї—П –µ–≥–Њ –њ—А–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–∞ —Г –Т–∞—Б –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л—В—М –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ Javascript
)
|


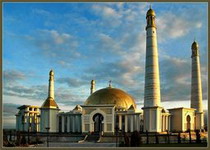

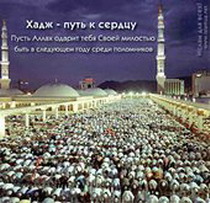





 –Ы–µ–≤ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є: —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –Ї–ї–∞—Б—Б–Є–Ї –љ–∞ –њ—Г—В–Є –Ї –Ш—Б–ї–∞–Љ—Г –Ы–Є—И—М –µ–і–Є–љ–Є—Ж—Л –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–є —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—В—Б—П –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –Ї–ї–∞—Б—Б–Є–Ї–∞–Љ–Є —Г–ґ–µ –њ—А–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л –≤—Б–µ–Љ—Г –Љ–Є—А—Г вАУ —В–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ –±—Л–ї —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М, –≥—А–∞—Д –Ы–µ–≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є (1828 - 1910 –≥–≥.). –£–ґ–µ –Ї –Ї–Њ–љ—Ж—Г XIX –≤–µ–Ї–∞ –µ–≥–Њ –Є–Љ—П –±—Л–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —Б–∞–Љ–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –≥–і–µ –Њ–љ —Б—В
–Ы–µ–≤ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є: —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –Ї–ї–∞—Б—Б–Є–Ї –љ–∞ –њ—Г—В–Є –Ї –Ш—Б–ї–∞–Љ—Г –Ы–Є—И—М –µ–і–Є–љ–Є—Ж—Л –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–є —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—В—Б—П –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –Ї–ї–∞—Б—Б–Є–Ї–∞–Љ–Є —Г–ґ–µ –њ—А–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л –≤—Б–µ–Љ—Г –Љ–Є—А—Г вАУ —В–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ –±—Л–ї —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М, –≥—А–∞—Д –Ы–µ–≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є (1828 - 1910 –≥–≥.). –£–ґ–µ –Ї –Ї–Њ–љ—Ж—Г XIX –≤–µ–Ї–∞ –µ–≥–Њ –Є–Љ—П –±—Л–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —Б–∞–Љ–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –≥–і–µ –Њ–љ —Б—В